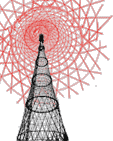 |
Говорит
|
Леонид Губанов. «Я сослан к Музе на галеры…» М.: Время, 2003. 736 с. Тираж 3000 экз. (Серия «Поэтическая библиотека»)
Книга Леонида Губанова (1946-1983), включающая более пятисот стихотворений и четырнадцать поэм, является достаточно представительным собранием сочинений поэта, формально знаменующим его возвращение в литературу. Однако немедленно возникает трезвый вопрос, подготовленный «столь долгим отсутствием» Губанова в мире сем и мире литературном: в каком качестве он возвращается? Книге предпосланы два предисловия: «От составителя» – И. С. Губановой и собственно предисловие под названием «Поэзия священного безумия», написанное Юрием Мамлеевым. Из первого мы узнаем, что «Леонид Губанов, основатель “Самого молодого общества гениев” (СМОГ) – поэт самобытный, широко известный любителям поэзии Москвы шестидесятых-семидесятых годов, но при жизни так и непризнанный в официальных литературных кругах». Второе предисловие более всего напоминает автопародию. Возникает ощущение, что писатель Мамлеев, выполнил некоторое литературное упражнение на тему: «Как бы я написал 25 лет тому назад предисловие к переведенному на русский язык сборнику стихов народного поэта одной из среднеазиатских советских республик, если бы перевод ради заработка был сделан по подстрочнику одним из моих приятелей». Только такой причудливой стилистической фантазией можно объяснить фразы: «…недаром есть мнение, что он лучший русский поэт второй половины ХХ века» или: «И трудно представить его живым в мире голого чистогана». Читая это, невозможно избавиться от ощущения лукавого подмигивания, провоцирующего ответную гримасу, – понимаю, мол, тайный смысл, не случайно этакое пишется. И трудно преодолеть соблазн ответить экзерсисом на экзерсис – сочинить, фразочку возрастом в четверть века – например, такую: «В скудном и безликом ландшафте советского существования писателю Ю…ю М…ву открываются бездонные гробовые провалы и безвоздушные метафизические выси, в которые он не гнушается низринуться/воспарить и потому в народе заслуженно зовется знатным спелеологом и астронавтом». Завершающий блок книги представляет собой нарезку мемуарно-аналитических фрагментов, в которых авторы, по большей части хорошо знавшие Губанова люди, вспоминают и рассуждают о нем. Свод высказываний получился довольно однообразным и малоинформативным, но именно этими своими качествами как раз и интересен. Он еще раз доказывает, что образ Великого Поэта не претерпевает тех превращений, какие претерпевает поэзия, потому что к поэзии, в сущности, не имеет прямого отношения. Он является социокультурной константой, свидетельствующей лишь о значимости и авторитете той области деятельности, в символическом центре которой находится. Так образ Великого Мореплавателя рождается в эпоху Великих географических открытий, образ Великого Полководца формируют самые кровопролитные войны, и образ Великого Хакера, быть может, явится, когда виртуальный мир окончательно затмит реальный, и шалости в компьютерных сетях станут, не ровен час, караться виртуальной смертной казнью, которая будет пострашней колесования. Образ Великого Поэта сложился в русской культуре достаточно поздно и под сильным влиянием культуры европейской, прежде всего романтической. Российская, а впоследствии советская, реальность способствовала развитию таких необходимых составляющих этого образа, как гонимость, неспособность к социальной адаптации, конфликтность, отклоняющееся поведение склонность к самоуничтожению, ранняя или насильственная смерть. К числу более специфических черт относятся постоянная творческая экспансия, стремление к активной репрезентации и новаторство, не выходящее, однако, за рамки традиции, позволяющей степень этого новаторства осознать и измерить. Все, что поведали читателю адепты Леонида Губанова, имеет целью доказать его, по мнению одних бесспорную, других – погубленную, третьих – неоцененную, но гениальность как предварительную ипостась величия, которое еще наступит после осознания его поэтической значимости. Причем ничего внятного о поэтике Губанова не сказано, за исключением, пожалуй, небольшой заметки Вяч. Курицына, которому по роду его воззрений и интересов, проблемы величия вообще не слишком интересны. Прочие авторы, в числе которых Ю. Крохин, П. Вегин, Л. Васильева, Е. Евтушенко, К. Кедров, Л. Алабин, А. Битов, В. Алейников, Н. Шмелькова, Ю. Кублановский, сходятся в том, что поэзия Губанова представляет собой нерасчленимый словесный конгломерат, не поддающийся никаким аналитическим операциям. Впервые собранное в большом объеме наследие поэта в известной степени объясняет истоки такого понимания. В самом деле, читая Губанова, даже не вооружившись методологией «сердечного подхода», который рекомендует Ю. Кублановский, обнаруживаешь, что отдельные строки, строфы, стихотворения, поэмы, являются весьма условными сегментами текста. Перед глазами разворачивается гипертекст, размеченный иногда отчетливыми, иногда еле заметными границами силовых полей чужого текста. По-видимому, необычайно развитая способность к поэтической эмпатии в сочетании с безудержной креативностью сделали Губанова своим заложником. Под действием чужих поэтик, вернее их энергетических полей, он, создавая свой текст, бессознательно моделировал столкнувшиеся в его сознании поэтические впечатления. Потому особенно интересны у него не те очевидные зоны Лермонтова, Маяковского, Есенина, Хлебникова или Мандельштама, которые существуют автономно, но многослойные наложения этих и многих других голосов, деформирующих друг друга. …Прошлое, отдай мне их, три шестерки! («Чаевые черной розы»)
Ассоциативная свобода – одна из наиболее привлекательных для поклонников Губанова черт его поэзии – при внимательном анализе предстает всего лишь манипулированием разнообразными, но ограниченными рамками его поэтических предпочтений идеологическими, понятийными, лексическими или ритмико-интонационными блоками. В результате губановский текст приобретает характер перекликающихся отголосков разных поэтических систем. Наиболее отчетливо звучат здесь нео-романтические, символистские, футуристские и экспрессионистские мотивы. Прослеживая развитие русской поэзии последних четырех десятилетий, нетрудно увидеть, что, наряду с минималистской тенденцией к отказу от традиционной поэтической техники, существует и противоположная ей тенденция к избыточной концентрации традиционных и узнаваемых приемов, ведущая к их преодолению и девальвации. Ранние стихи Губанова – пример именно такой перенасыщенности, но его абсолютная, возведенная в центр творческой системы безрефлективность в отношении к стиху уничтожила самую возможность продуктивного развития. Это относится и к судьбе явленного в творчестве Губанова “образа автора” – стержня всякой экстравертно исповедальной и бросающей вызов миру поэтической системы. У Губанова в движении от ранних к последним стихам этот образ претерпевает парадоксальную эволюцию: от юношеского к инфантильному. Было бы нелепо сейчас рассуждать о том, в какой степени состоялся Губанов как поэт, упрекать его в подражательности, вторичности, подверженности влияниям. Именно беспредельное доверие к довлевшему ему предшествующему поэтическому опыту в сочетании с экстатически-страстными чертами его натуры делает его уникальным явлением, лежащим вне качественных оценок, как отношения между означаемым и означающим в языке. Он никого и ничто не называл по имени и не переименовывал, а лишь окликал, как ему послышалось. Но делал это с исступленным упорством. В конвенциональном стихоговорении Губанов видел единственную форму речи и единственную функцию языка и взамен приращения новых смыслов занимался декоративным оформлением старых. …Но только б видеть глаз ее Это из стихотворения Губанова «Была б жива Цветаева…», а раньше из пастернаковского «Из суеверья»: …И чуб касался чудной челки / И губы – фиалок…, в котором есть еще строчки: Я поселился здесь вторично/ Из суеверья… Может быть, именно они послужили бы лучшим эпиграфом к сборнику Губанова, чем выбранный то ли им самим когда-то, то ли составителями усеченный вариант стихотворения Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…». По сути дела сознательно декларированная Губановым позиция бунтаря и новатора борется с бессознательно свойственной ему консервативно-охранительной. В ее рамках, если отказаться от уничижительных коннотаций, творчество Губанова и теперь и впредь осмыслять более естественно. Правда, при этом труднее героизировать его образ и противопоставлять его величие скудости сверстников, продолжающих работать в литературе, несмотря на принадлежность к поколению, по словам Евтушенко, «удушенному в колыбели». Тем не менее историко-филологическая работа с наследием Губанова, о необходимости и актуальности которой говорит Андрей Немзер в своей рецензии на сборник, требует спокойного и взвешенного отношения и к самому автору, и к историко-культурному контексту его творчества, чрезвычайно, кстати, интересному и современным молодым читателям абсолютно неведомому. Например, аббревиатура СМОГ наверняка не ассоциируется для них ни с чем, кроме техногенного тумана. Что же касается высказанных в той же рецензии опасений: «Подумать страшно, что произойдет с когортой многославных стихотворцев второй половины ХХ века, когда поэзия Губанова выйдет на вольный свет. (Касается это не только "плохих и одинаковых", но и "хороших и разных")», то трудно считать, что появление объемистого сборника, тиражом в три тысячи экземпляров, вполне прилично изданного, хотя и лишенного даже минимального научного аппарата, не знаменует собой выход «на вольный свет». А если это так, то можно умерить волнения и тревоги и предаться мирному созерцанию последствий, которые не преминут явиться.
Михаил Шейнкер
Журнал «Критическая Масса», 2003, № 3.
|
|
|