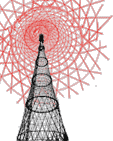 |
Говорит |
Евг. Перемышлев«…пионеры русской письменной поэзии»
У каждого времени собственная литература со своими задачами и особым строем, определяемая, как ни парадоксально, строем государственным (классики марксизма-ленинизма тут абсолютно правы, если речь идет о русле литературы, а не о притоках и ответвлениях). Так ее и следует воспринимать, не требуя большего, и того довольно. В поэзии XVIII века важны не стихотворные красоты, которых там, собственно, нет (или, по крайней мере, не было, когда слагались эти стихи (1), поэтического им добавило время, затушевав актуальное, злободневное, на первый план выставив – «как» сказано, а не «что»). А между тем, меря эти стихи их собственной меркой, первый и единственный вопрос, который должны решить читатели: какой урок следует извлечь из прочитанного. В определенном смысле не ода, не героическая поэма, не эпитафия, басня – вот центральный литературный жанр XVIII века. Как в басне, в любом произведении здесь важен вывод, чистый остаток, только одой вынесенный в начальные строки (пою, а дальше перечень достойного воспевания), в басне выделенный в мораль («негоже» и перечисляется, чего делать не след). Прочее лишь украшения, без которых легко обойтись, – вороны, лисицы, сыры – смесь зоопарка и гастронома, странный, но живучий гибрид. Впрочем, и то, и другое, и гастроном, и зоосад, – суть, построения риторические. Их назначение – и демонстрировать, и являть. Зря ли Хлебников, в каком-то смысле замыкавший одическую традицию прошлого и начинавший традицию новой оды, сочинил о зоосаде поэму, этакую череду наглядных картин, истолкованных аллегорий, в которых нарисовано не больше сказанного, слово полностью исчерпывает изображение: сад, «где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья и останавливающему кровопролитную схватку», «где живо напоминает мучения грешников тюлень, с воплем носящийся по клетке», «где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий» (2). Выставленное здесь – материал для сравнения, демонстрируются не предметы, а смыслы, главное – выделено в слове, выведено особым шрифтом и заключено в рамку. Как в зоопарке: «Зверей кормить воспрещается!», как в гастрономе: «Покупатель и продавец, будьте взаимно вежливы!» Ради этих решительных выводов вырыты рвы и выкованы решетки, ради них сооружены прилавки и застеклены витрины. Ради них, а не чего-то еще, возведены (как говорят, разбиты) парки культуры и отдыха имени хоть кого-нибудь (обязательно чьего-то имени!), столь замечательные объекты нашей культуры. Д.С. Лихачев сочинил целую монографию, где рассматривал разнообразные садово-парковые ансамбли, как изъявление сути того или иного общества (3). И английский парк с его нарочитой «природностью», ничем не походил на французский, своей регулярностью и помпезностью свидетельствующий о монаршем абсолютизме. Наши парки, по-своему, но в том же ряду, они насквозь риторичны, демонстративны. Если власть у нас – зрелище власти (4), а магазины – зрелище возросшего благосостояния, то парки – не место отдыха, а зрелище отдыха (5), для того и выстроены лодочные станции, для того посажены клумбы, выставлены скульптурные аллегории «Красноармеец с новой винтовкой», «Свинарка, выкармливающая поросенка» или «Дети над глобусом» – неживые, гипсовые картины (6), вызревающие в слова, надписи, лозунги и призывы: «Не сорить!», «Берегите зеленые насаждения», «В здоровом теле – здоровый дух». И кажется, при чем тут басня? И к чему помянут XVIII век? А при том. К тому. Завершившееся – длящееся – в веке XX, воплощенное нашей родной тоталитарной культурой, берет начало именно там. Не типы личности, хотя и они, типы человеческих отношений пришли оттуда, с малыми потерями все же миновав XIX век, вклинившийся между прошлым и настоящим, век инородный и вообще-то лишний. И потому, сказанное в давней вступительной статье, надо воспринимать напрямую, только взятое с противоположным знаком, плюс поменять на минус, минус на плюс, и убедиться: в математике перемена мест слагаемых не влияет на сумму, в эстетике положительная или отрицательная оценка не влияет на соотношение, воплощенное в эстетической концепции (7). Итак, «Стихи Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова <…> представляют современному советскому читателю величайшие трудности для чтения. Здесь почти все ему чуждо и непонятно: и содержание их, темы, жанры (хвалебные оды ко дню рождения, именин и восшествия на престол императриц, подражания псалмам и другие переложения из церковных книг, дидактические послания, идиллии, описывающие любовные переживания каких-то небывалых пастухов и пастушек и т.д.) и стиль, обильный намеками и воспоминаниями из классической мифологии и Библии, наконец – и больше всего – самый язык, почти не русский, полный слов и оборотов церковно-славянских, чуждых и непонятных советскому читателю… Все эти препятствия мешают нам подойти непосредственно к стихам XVIII века, ощутить их как стихи, как художественное произведение, а не только как исторический документ… <…> А между тем, преодолев трудности понимания, мы увидели бы немало подлинно художественного материала, могущего еще и сейчас непосредственно воздействовать на читателя, волновать его» (8). О трудностях при чтении было уже упомянуто, равно упомянуто было и о художественной ценности произведений, а вот, что касается воспитательного значения, воздействия на публику этих текстов – дело обстоит несколько иначе (впрочем, автор статьи о том знает, но не обо всем заявишь вслух). Еще раз перечитайте, в каких жанрах работали именитые стихотворцы. Да разве они незнакомы, разве чужды нашему сердцу. Это ж поэтическая номенклатура советской поэзии. Оды к рождениям, именинам и восшествиям на престол? Откройте любую газету, хотя бы тридцатилетней давности, и наткнетесь на рубрику «Что я напишу к юбилею Октября» – писатели делятся творческими планами. А трилогия «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики», поставленная к пятидесятилетию Октябрьской революции свободомысленным театром «Современник»? Подражания псалмам и церковным книгам – это рифмованные переложения учебников по истории, не отступая от канонов, ни-ни.
Ленин прост – как материя,
Не какие-то «винтики»,
Заряжая ораторски
Вызревавшие мысли
Здесь есть все, что положено: и забота о человеке, и связь с массами, и вызревание философский воззрений. Ну а идиллии!.. Какие уж там пастушки мужеского и пастушки женского рода, герои труда и быта, оказывается, и революционеры спать умеют. Да еще как, порозовевшие, цветные рубашонки распахнуты на нежной груди.
В доме позднего рококо
спи, Серго, еще раным-рано,
спи, Серго в васильковой рубашечке,
Язык же, непонятный читателю, – обыкновенный советский язык, выработанный многолетней практикой. Он, и верно, закрыт для непосвященного. На одном из концертов Александра Галича старая эмигрантка повернулась и спросила у своего соседа: «Простите, вы не знаете, на каком языке он поет?» (11) Наш язык (тут не советский, а современный русский), не сгущенный специально, а просто старательно подобранный Галичем, – легко ли понять его без словаря, стихотворную тарабарщину, аллегорию нашего бытия, повседневной действительности:
Помню, глуп я был и мал,
Басан, басан, басана,
А это ж – Гений всех времен,
Но оставим до времени языковые проблемы. Мы говорили о личностях и отношениях, так договорим. Ибо поэты, о которых шла речь, Ломоносов, Сумароков и Тредиаковский «являются пионерами русской письменной поэзии европейского типа; им выпало на долю выработать формы и дать образцы, по которым создавалась литература в течение всего последующего времени. Они вложили первый вклад в то художественное наследство дворянского и буржуазного классов, которое теперь усваивает и перерабатывает рабочий класс СССР» (13). Они во всем – от происхождения своего и поведения, до перипетий судьбы – предвосхитили появление особого типа личности, советского писателя (это название, а не оценка и не лишь отчасти характеристика), российского писателя тоталитарной эпохи. И время, которое их родило, мучительно напоминает время, когда становилась советская культура, начиная с нескольких революций, каковые теперь величают то бунтами, то переворотами, до внутриполитического переворота, когда к власти пришел И.В. Сталин. Не стану здесь цитировать вполне уместную ленинскую характеристику периода после смерти Петра I, отошлю к первоисточнику, лишь добавив, – как ни относись к Ленину, кое-что из его высказываний не потеряло актуальности, да и говорил он больше не о прошлом, а о современности (14). И вот это совсем не идеальное время выдвинуло идеальные фигуры: крестьянский сын Ломоносов, дворянин Сумароков и Тредиаковский из духовного звания. Разумеется, для новой эпохи ни дворянское происхождение, ни поповское не плюс, плюс – разнообразие. Старые общности разрушались, создавалась общность новая. Ломоносов стал для советской культуры фигурой значимой, легендарной – бедный крестьянский парень, неграмотный переросток, пешком добравшийся в Москву – это же идеал. Хотя все здесь, кроме ломоносовского возраста, ложь – и бедность, и неграмотность, и пеший проход. Такая же ложь, как пролетарское происхождение большой части тех же советских писателей. Были и дворяне, были и рафинированные интеллигенты, и высоколобые интеллектуалы. Но в риторической культуре идеал сильнее и действеннее самой действительности. Не только от страха и мимикрии вдруг все оказались «из пролетариев» или «из крестьян». Это не клюевская игра, когда он в гостях смиренно хлебал щи деревянной ложной и вытирал рот то ли подолом рубахи, то ли рукой, а потом заговаривал по-французски либо по-немецки, рассуждал о Ницше и Шопенгауэре, а почему бы то разозлившись на собеседника, отплясывал французский канкан, демонстрируя причинные и следственные места. Советские писатели хотели стать советскими, начинали искренне верить, что они «совсем простые», что родились то ли в хлеву, то ли в кузнице. И при том они хотели вещать, наставлять, хотели сами сделаться образцами и производить образцы. Тут опять не обойтись без цитаты, пространной, но очень важной: «Деятельность этих трех писателей… отличается характерной особенностью… творчество это менее всего может быть названо непосредственным; большею частью оно представляет собою эксперимент, решение поставленной себе задачи – и притом решение, долженствующее стать образцом для других. Они не просто писали, а создавали образцы в разных родах поэзии. Такова была их объективная историческая роль, и так они и смотрели на свою деятельность… и со всей серьезностью, добросовестно, даже самоотверженно старались выполнить свой долг перед литературой. Они понимали, что от большей или меньшей удачи того или иного их опыта, от того или иного практического решения задачи всецело зависит судьба данного литературного жанра, приема, направления». И чуть далее: «Такой экспериментальный "опытно-показательный" характер деятельности Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова объясняет ряд особенностей ее. Отсюда, прежде всего, та высокая самооценка, которую мы находим у всех трех. Не будучи первоклассными поэтами по природе (исключая, может быть, Ломоносова), они историческими условиями были выдвинуты на роль зачинателей, вождей и не могли не сознавать этого. А их крайне непрочное и невысокое общественное положение среди тогдашнего культурного (вернее – малокультурного) общества – недостаточное признание их, обиды и уколы самолюбию – превращало эту высокую самооценку в преувеличение, болезненное самомнение, крайнюю щепетильность и раздражительность. Отсюда же и постоянная их взаимная полемика, придирчивая, бранная, не стесняющаяся никакими средствами и приемами. < … > Отсюда, наконец, часто дидактический, поучительный характер их деятельности. Они не только создают стихи, но и объясняют их, пишут в прозе и даже в стихах на теоретические литературоведческие и стиховедческие темы. Этой стороны их деятельности ни в коем случае нельзя отделять от их поэтической практики…» (15) Опасная смесь добровольности и принуждения – вот что такое их поэзия. Ломоносов, по долгу службы, сочиняющий слова для праздничных фейерверков, Тредиаковский, насильно принужденный слагать стихи к шутовской свадьбе. И одновременно ведь перекладывали в стихи мысли и указания, должные бы приносить пользу. Всегда ли собственные мысли и самостоятельно разработанные проекты? Нет, действовали и по подсказке, интерпретировали чужие высказывания. Можно сказать, что тут один шаг до практики советских писателей. Да и шага никакого не было. Просто один к одному. Вспомнить хотя бы такой случай из не слишком давнего прошлого. Надо было как-то растолковать народу, почему в первые дни войны Красная Армия, считавшаяся непобедимой, отступала. Почетную и трудную задачу возложили на советского писателя А. Корнейчука. В «Правде» появилась пьеса «Фронт», которую, как говорят, заказал и правил собственноручно Сталин: «Когда один из любимых учеников поэта Ильи Сельвинского рассказал об этом учителю, тот сказал: – Настоящий художник никогда не согласился бы на это. Я бы, во всяком случае, не смог. – А что бы вы сделали на его месте? – спросил ученик. – Если бы я оказался в положении Корнейчука, – ответил Сельвинский, – я бы сказал: "Товарищ Сталин! Вы сформулируйте вашу мысль, а я выражу ее своими словами"» (16). Возможно, это апокриф, но апокриф – просто не канонизированный религиозный текст. Часто не канонизированный до поры до времени. Впрочем, между поэтической практикой века XVIII и практикой века XX есть совпадения еще более поразительные. Только в нашем веке все расцвело пышным цветом, дошло до логического конца. Вспомним знаменитый спор, затеянный Ломоносовым, Сумароковым и Тредиаковским о стихотворных размерах, и знаменитое же состязание, когда двое перекладывали 143 псалом ямбом, а один – хореем, вырабатывая русское стихосложение, ища эталон, по которому затем создавать образцы уже для тиражирования литераторами помельче, да и всеми прочими. Советский поэт не мысли, не партийные и государственные постановления принимает в работу, теперь он и стихотворный размер получает (хотел бы получить) из рук партии и государства: «Когда мы шли по Петровке в 1927 г., Маяковский вдруг шел и говорит: "Коля, что если вдруг ЦК издаст такое предписание: писать ямбом?". Я говорю: "Володичка, что за дикая фантазия! ЦК будет декларировать форму стиха?" – "А представьте себе. А вдруг?" – "Я не могу себе представить". – "Ну, что у вас фантазии не хватает? Ну, представьте невероятное". – "Ну, я не знаю. Для этого нужно чувствовать свою стихию для того, чтобы не заблудиться. Я, наверное, не сумею, наверное, кончусь". – Замолчали и пошли. Я не обратил внимания, думал, что пришла фантазия. Мы прошли шагов сорок. Он махал палкой, курил папиросу и вдруг сказал: "Ну, а я буду писать ямбом"» (17). У ЦК были заботы поважнее, чем декларировать, ямбом или хореем писать Маяковскому. Да он вроде бы и не существовал для властителей и судий. А ежели сильно докучал с рифмованными советами, на него можно было цыкнуть, как цыкнули на его дальнего предшественника: «Господин Сумароков поэт, и потому достаточной связи в мыслях не имеет!» Но российский поэт не успокоится, – отринутый государством, он как бы не существует, по крайней мере, не чувствует себя, жив ли, мертв. И отринутый, он мечтает. Так, когда Асеев побывал в Италии, он рассказал Маяковскому, что видел особую грамоту – указ цеха суконщиков, архитектору надлежало построить собор, по красоте которому не было бы равного в мире: «Когда я это передал Маяковскому, тот посмотрел на меня долгим взглядом и промолвил как-то необычайно тихо: – Да! Вот это социальный заказ! – Потом, помолчав: – Ну, ничего! Я и без заказа такое напишу!» (18) Социальный заказ не нужен, потому что поэт сочиняет «по мандату долга». Нет, российского писателя ничем не смутишь. Дабы сеять вечное, доброе и разумное, он способен на любое деяние. Написать эпиграмму, где за прозрачными псевдонимами легко опознать литературных противников, и пустить эпиграмму ходить по руками, сочинить частное письмо, похожее на жалобу или челобитную, открыто и за спиной выступать против своих врагов и конкурентов, отнимать у них должности, места, изгонять, вредить им, мешать. Грань между критической статьей и политическим доносом установить трудно. Грань эта подвижна и в XX веке, и в XVIII. Тредиаковский в 1755 году составил записку в Синод о вольнодумстве А.П. Сумарокова, и нисколько не сомневался, правильно ли он поступил (19). И последний вопрос, который здесь будет рассмотрен, – вопрос о языке. Ситуация походила на дежа вю. И в XVIII веке, и в XX литературе требовался новый язык, ибо обновилась действительность и слова не отражали ни окружающего мира, ни вещей, из которых составлен это мир. Что стало причиной перемен – петровские ли реформы, социалистическая ли революция – в данном случае все равно. Переводя французский роман «Езда в Остров любви», Тредиаковский впервые применил разговорный русский язык в качестве литературного. Это было неожиданно, это было ново и странно. Не менее странно и ново (тут возможно двигаться по истории в любую сторону), чем в прозе М. Зощенко, также подыскивавшего новые слова к новым обстоятельствам. Но и недоразумение, возникшее между Зощенко и современной ему критикой, имеет свое соответствие в прошлом. Критике показалось, будто Зощенко пишет мелкие рассказы одним слогом, а вещи крупные, например, повести, другим. Автору пришлось объясняться: «Я только хочу сделать одно признание. Может быть, оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я – пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех отношениях. Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям. В больших вещах я опять-таки пародирую. Я пародирую и неуклюжий, громоздкий (карамзиновский) стиль современного красного Льва Толстого или Рабиндраната Тагора и сентиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, но который должен бы существовать, если б он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый план…» (20) Пародируя Ломоносова, Сумароков создавал так называемые «вздорные оды», создавая оды серьезные, Сумароков пользовался приемами ломоносовских од уже без поправок, и получалось, что он создавал как бы автопародии (21). Зощенковский случай. И ничуть не отличается заявление Зощенко от заявлений литераторов XVIII века: «Еще я хотел сказать об языке. Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня – почти карамзиновский. Их фразы – карамзиновские периоды. Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина так же трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы. < … > Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей» (22). Унизил других, попутно возвысив себя. Но литературные законы с течением времени вовсе не изменились, придет день и литераторы отыграются. Унижен будет пролетарский писатель Зощенко (или «как бы пролетарский»), а вернее – советский. Традиции русской риторической культуры не прерывались, они без потерь миновали век XIX, век, когда формировался тип независимого профессионального писателя. Российский писатель привычно зависит – от политической конъюнктуры, от характера покровителей, от табели о рангах, от постановлений, от газетных статей (вспомним заботу Петра о печати). Российский писатель зависит от себя, от того статуса, который он выбрал и который необходимо удерживать. Если хочешь жечь глаголом сердца людей, будь готов к тому, что с тебя могут снять портки и ожечь тебе не менее важный телесный орган ремнем или розгами. Но статус русского литератора сулит и много приятного – денежные вспомоществования покровителей или пайки в закрытых распределителях. Те же портки, которые с тебя могут стянуть при наказании, пошьют тебе в особом закрытом ателье, где не шьют портки людям с улицы, например, твоим же читателям. А это, в сочетании с духовной властью, прельщает. За это стоит побороться. Да и риторическая культура не так плоха: она создает смешные басни с прозрачной моралью и выдвигает симпатичные, вполне приемлемые лозунги, которые вывешивают в рамках там и сям. Например, – «Граждане, будьте взаимно вежливы!» Или что-то еще в том же роде.
М. Ломоносов, А. Сумароков, В. Тредиаковский. Стихотворения. Письма. М., 1999, с. 527-535.
1. Именно о «красотах», потому что они второстепенны, применительно к целому, идет речь в дневниковой записи Л.Я. Гинзбург, когда она рассуждает о неожиданных образах и оборотах, впору поэзии XX века, встречающихся у Г.Р. Державина и М.В. Ломоносова (см.: Лидия Гинзбург. Человек за письменным столом. Л., 1989, с. 36). 2. Велимир Хлебников. Творения. М., 1987, с. 185, 186. 3. Д.С. Лихачев. Поэзия садов. СПб., 1991. 4. См.: М. Ямпольский. Власть как зрелище власти. – «Киносценарии», 1989, № 5, с. 176-187. 5. И потому в постсоветском культурном пространстве бывшее зрелище отдыха трансформировалось в зрелище чужого отдыха, где даже процесс еды представлен как процесс съедения блюд в кафе, вынесенных на тротуары, в ресторанах, нависших прозрачным стеклом над пешеходами. Да и в парк не ходи – включи телевизор и наслаждайся зрелищем: кто-то непременно отдыхает и ест, таким способом репрезентируя обретенную независимость. 6. Ср.: М.Н. Золотоносов. Глyптократоz: Исследование немого дискурса. Аннотированный каталог садово-паркового искусства сталинского времени, СПб., 1999. 7. Не о том ли писал В.Б. Шкловский, утверждая, что в искусстве самое главное – соотношения (по его примеру, кошки к камню)? 8. С. Бонди. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. – В кн.: Тредиаковский. Стихотворения. [Б.м.], 1935, с. 7. 9. Андрей Вознесенский. Дубовый лист виолончельный. М., 1975, с. 486. 10. Андрей Вознесенский, указ. соч., с. 485. 11. Бенедикт Сарнов. Перестаньте удивляться! Непридуманные истории. М., 1998, с. 118-119. 12. Александр Галич. Сочинения в двух томах. Том 1. М., 1999, с. 110. 13. С. Бонди, указ. соч., с. 8. 14. См.: В.И. Ленин. Сочинения, т. 28, стр. 397. 15. С. Бонди, указ. соч., с. 12. 16. Бенедикт Сарнов, указ. соч., с. 39. 17. Николай Асеев. К творческой истории поэмы «Маяковский начинается». – В кн.: Из истории советской литературы 1920-1930-х годов. М., 1983, с. 488. 18. Николай Асеев. Родословная поэзии. М., 1990, с. 344. 19. См. Ломоносов М.В. Стихотворения. М., 1984 , с. 329. 20. Мих. Зощенко. Уважаемые граждане. М., 1991, с. 585-586. 21. А.П. Сумароков. Избранные произведения. Л., 1957, с. 32. 22. Мих. Зощенко, указ. соч., с. 585-586.
|
|
|